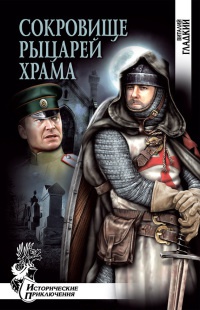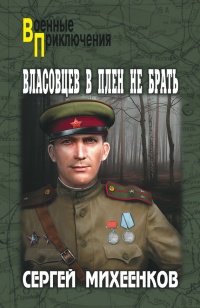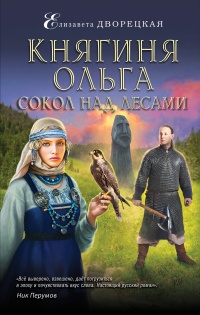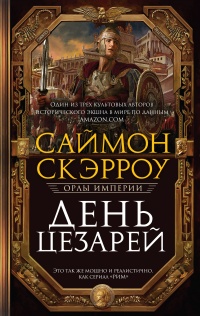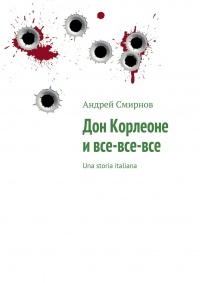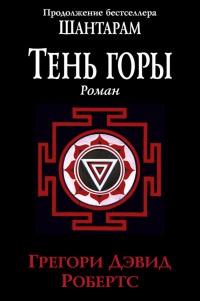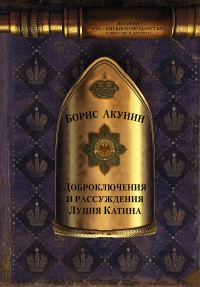Читать книгу "Пепел и снег - Сергей Зайцев"


В нашей библиотеке можно читать хорошую книгу "Пепел и снег" - "Сергей Зайцев" бесплатно полную версию. Жанр: "Книги / 🌎 Приключение". Онлайн библиотека дает возможность прочитать книгу полные версии на вашем гаджете (телефон, планшет, десктопе) бесплатно без регистрации на нашем сайте портале онлайн книг online-knigki.com
- Жанр: Книги / 🌎 Приключение
- Автор: Сергей Зайцев
- Ограничения: (18+) Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту для удаления материала
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пойдём, сыны отечества,
настал день славы.
Быть может, есть смысл в начале этой книги сделать одну-другую оговорку и таким образом упредить недоумение какого-нибудь архивного «бумагоеда», по долгу службы знакомого с историей того почтенного семейства, юный отпрыск которого ввиду наглядности и поучительности своей судьбы в целом и универсальности его странствий 1812 года, в частности, стал достойным предметом нашего описания. Пройдёт сей «бумагоед» по дремучему лесу, в коем каждое древо — генеалогическое, ветви-веточки всё пересмотрит-перетрогает, плечами пожмёт и поспешит к архивариусу докладывать — произрастало-де такое древо в указанных местностях, есть-де на том древе описанный сучок, да вот беда — не имел тот сучок ни при жизни, ни после неё (не оставил сколько-нибудь заметного наследия) такого значения, каким по доброте душевной или из неких скрытых побуждений без церемоний одаривает его автор... Вот так и наделит своим клеймом-значением: сучок неприметный, каких в лесу тьма, неба не видно, а всё, что о сём сучке сказано, — не иначе выдумка. Не разглядит за бумагой человека, за зелёным листком не увидит личности. Не мудрено.
И не будем вводить ретивого в искушение: липу назовём ольхою, ель — сосною, тополь — берёзою. Дуб, пожалуй, оставим дубом — его издалека видно, могуч, и, как ни крути, не обрядишь в чужие одежды, и нужно же на что-то опереться: не плечом, так хоть взглядом, ибо без опоры обретёшь вечное падение, а без точки отсчёта не разберёшь, что спереди, что позади, что было вчера, что будет завтра. Внесём изменения и в географический атлас — дело и вовсе простое в последнее время, — так запутаем наши Палестины, что и премудрый архивариус вместе с картографом головы сломают, а до истины не доберутся. Веточку же, о которой далее пойдёт речь, мы станем именовать по-своему, но прежде прольём на неё немного света, не утаим, что весьма близка она к другой крепкой ветви — всемирно известному роду, давшему человечеству немало прославленных имён, образованнейших умов, оставивших глубокий след в истории не одной нации.
Однако в наше просвещённое время, в наш трудный век среди читателей не сыскать простодушных, и потому вряд ли кто поверит нам, что только из боязни исказить историческую правду мы предпринимаем изменения названий некоторых местностей и имён реально существовавших людей. И читатель будет прав. Конечно же, этот приём дозволяет нам подчеркнуть, что происшедшее с героями могло случиться с каждым, живущим в то время, и в любой местности, чтобы подчеркнуть, что всё совершившееся и описанное в романе — суть явления рядовые для своего времени, времени тяжких испытаний, явления лишь обобщённые нами и сведённые к объёму обычной полновесной книги. Так что, дорогой читатель, роман сей — действительно сплошная выдумка, призванная, однако, служить целям высоким — помочь читающему разобраться в себе самом — доброе ли и мужественное сердце бьётся у него в груди или трепыхается пугливое сердечко, высокая ли душа живёт в нём или водится червь малодушия. И обо всём — на примерах, не указывая пальцем, как и требует того наш жанр. Всякий желающий сможет прибросить на себя те или иные поступки героев и тем опробовать своё Я на крепость, на сердечность, на мудрость, а если кто-нибудь пожелает применить к собственной жизни какую-нибудь из вычитанных глупостей, то, надеемся, он и к тому будет иметь хорошую возможность, и непременно применит, ибо жизнь человеческая, слава Богу, бывает не короткой, и между многочисленными заумностями, из коих она состоит, без особого труда можно втиснуть две-три небольшие глупости. И не исключено, что жизнь от того станет лишь краше (но не следует забывать, что est modus in rebus[1])...
«Господи, благослови!» — говорится перед началом всякого доброго дела. И мы скажем, и начнём. Текст, как ткань из тысяч переплетённых между собой нитей, состоит из тысяч строк. Возьмёмся же за крайнюю нить, за первую строку, начнём с мысли о родословных. И на неё, как на основу, накрутим не спеша всё сочинение: мысль за мыслью, образ за образом, тему за темой. Клубок, что у нас получится, быть может, кто-то возьмёт в свой багаж. И мы обретём удовлетворение и, хотелось бы, — покой в уповании на то, что наш клубок будет полезен людям, что он, подобно укоренившемуся в литературе образу, сумеет вывести героев из тьмы на свет, а из неопределённости, безверия, лжи укажет краткий путь к ясности, к вере в добро, к истине.
Итак...
По меньшей мере, забавно выглядят в нынешние времена люди, пытающиеся возвести свою родословную к давно утратившему смысл дворянству, особенно если они не могут назвать никого дальше деда, и особенно после того, что даже за три незабытых поколения они не сумели отмыть чёрные пятки. На фоне этих беззастенчивых вралей много симпатичнее выглядит человек, помнящий родство крестьянского происхождения и перечисляющий по пальцам своих прямых предков: Михаила, Емельяна, Аполлона, Данилу... «Да, — говорит этот человек. — Все мои предки были с чёрными пятками. Но зато среди них был Аполлон!..»
Родословная нашего героя, Мантуса Александра Модестовича, дворянина, с всегдашней гордостью возводилась (а может, низводилась) к простому крестьянину, сермяжному мужику из деревни Русавьи близ Полоцка. Жил тот крестьянин за полтора века до описываемых событий, то есть во второй половине XVII столетия, и отделяло его от нашего героя ни много ни мало — пять поколений. Пашенку пахал — лоб от пота не просыхал, маленько портняжил, маленько плотничал, маленько тачал сапоги, да сам сапог не нашивал, не по карману было и не по ноге — на ножищи-то его кривые, мозолистые ничто, кроме лаптей, не лезло. Худо-бедно жил: и с крапивой, и с лебедой; раз в году нюхал пироги — словом, как все; Бога боялся, на господ не роптал (а их немало было и из царства, и из королевства, да каждый с придурью), и в дождь, и в вёдро всё в земельку смотрел, повздыхивал... Двор этого далёкого предка стоял возле самой Двины — так что, бывало, при сильных разливах хозяину доводилось ступать с порога прямо в лодку. Близость дома к реке сыграла впоследствии немалую роль, когда пришло лихое время.
Семейное предание гласит, что имя этого крестьянина было Адам, а дворянский чин он получил во время правления польского короля Яна Казимира за некую услугу войскам Речи Посполитой в войне против России[2]. Что это была за услуга, предполагали разное. Родовая хроника, начатая ещё сыном того Адама, открывалась следующей записью: «Отец мой умел заглянуть наперёд — людям помогал, за него и весь свет стоял. В поле скажет словцо, а ему от дальнего леса аукается. Пожертвовал отец малым, чтобы спасти большое, и обрёл наибольшее, ибо пан Потоцкий[3] любил доводить начатое до конца». Для несведущих последняя фраза достаточно замысловатая; о чём речь — с наскоку не понять. Однако кое-что проясняет легенда. Пусть и сомнительное свидетельство, но когда иных свидетельств нет, почему бы не обратиться к ней? Легенда — маленький родник, но далеко окрест о роднике знают и с удовольствием из него пьют...
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Пепел и снег - Сергей Зайцев», после закрытия браузера.